«Если не будешь работать на запросы семьи — ты бесполезен для ребенка»
Врач-невролог о том, как проверенные технологии реабилитации могут принести вред, полезна ли дельфинотерапия и почему необходимо создать всероссийский регистр детей с ДЦП. Беседовала Мария Семенова.
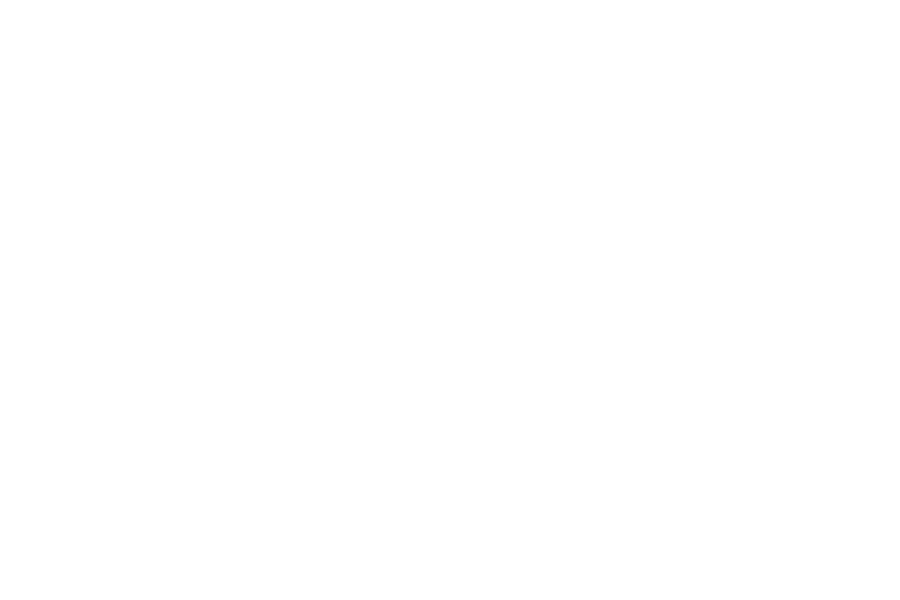
Вера Змановская, к.м.н., невролог, главный врач ГАУЗ ТО «Детского психоневрологического лечебно-реабилитационного центра «Надежда» в Тюмени, внештатный специалист по детской медицинской реабилитации департамента здравоохранения Тюменской области
Очень часто главным врачом ребенка с ДЦП оказывается его мама: она выбирает медицинские центры и методики, собирает деньги на курсы реабилитации. Однако курсы реабилитации, между которыми нет преемственности, нет постоянного контроля за состоянием ребенка, часто оказываются неэффективны. Что может предложить государство и общество родителям детей с ДЦП, кроме разрозненных курсов реабилитации?
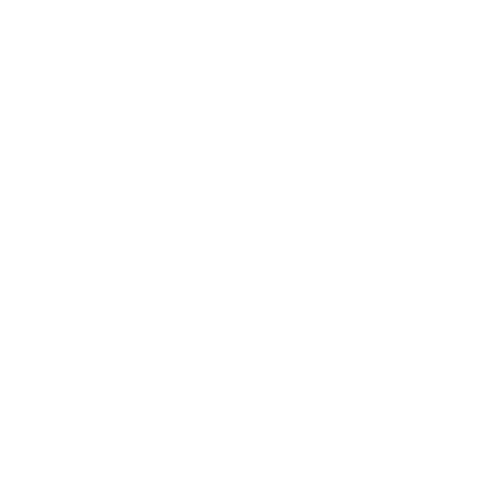
Вера Змановская, к.м.н., невролог, главный врач ГАУЗ ТО «Детского психоневрологического лечебно-реабилитационного центра «Надежда» в Тюмени, внештатный специалист по детской медицинской реабилитации департамента здравоохранения Тюменской области — человек, который модернизировал систему помощи детям с ДЦП в Тюменской области и выстроил систему профилактики ортопедических осложнений по образцу скандинавской программы CPUP.
«Невролог — не самый важный элемент в реабилитационной команде»
— Расскажите про ваш путь в профессии. Как вы пришли к тому, что стали человеком, который отвечает за реабилитацию в целом регионе?
— Реабилитация — это весь мой путь врача. За 33 года работы я только два месяца вела прием участковым неврологом. А потом меня позвали в реабилитационный центр, и так начался мой путь в познании новой профессии.
Это были 90-е годы, когда о реабилитации мы знали очень мало. Мы шли по пути исцеления болезней, которые, к сожалению, неизлечимы. Мы ставили цели — приблизить ребенка с особенностями развития к варианту нормы.
Но отработав лет десять, в начале двухтысячных годов, я лично уже прекрасно понимала, что этот путь — ложный. Мы идем не туда. Многие мои коллеги вообще потеряли интерес к реабилитации. Было ощущение, будто бы ты опустился на самое дно: ты не видишь результатов своей работы, твои ожидания не совпадают с тем, что имеешь в реальности. Я начала понимать, что надо двигаться в другом направлении. Мудрость есть такая: «Оттолкнись от дна — и достигнешь вершины».
У меня было два пути, либо уйти и найти более интересную врачебную профессию, либо просто начать заниматься самообразованием, знакомиться с мировым опытом. И конечно, я для себя начала открывать невероятные вещи, которые оказалось, уже давно открыты в мире: и Международную классификацию функционирования, и технологии адаптации ребенка к возможностям окружающей среды и общества. И многие-многие вещи, которые сегодня уже приняты как догма.
Я поняла, что должна остаться в реабилитации, попытаться сделать так, чтобы у нас были самые лучшие технологии, которые сегодня имеются в мире, чтобы мы в чем-то даже их и превзошли.
Мой путь сложный, но сложный именно внутри меня как личности, потому что я не поменяла ни одного места работы: была врачом, затем заместителем главного врача, и с 2019 года — уже главным врачом учреждения. И уже более 10 лет являюсь главным внештатным специалистом в медицинской реабилитации региона.
— С детьми с ДЦП работает мультидисциплинарная команда. Какова в ней роль невролога?
— Я студентам рассказываю, что невролог — не самый важный элемент в реабилитационной команде. Но для диагностики заболевания, конечно, он нужен.
Хотя заведующим отделением нейрореабилитации у нас сегодня является невролог, потому что по статистике 90% проблем, которые мы реабилитируем — неврологические. Поэтому, конечно, базовое неврологическое образование сильно облегчает понимание болезни, помогает выстраиванию правильных алгоритмов, программ, да. Но невролог — не первое лицо в команде.
— В чем в принципе работа центра «Надежда» отличается от других реабилитационных центров?
— Всякий кулик свое болото хвалит, и я не перестаю говорить своим коллегам: «Вы работаете в уникальном центре». Мы находимся в системе государственного здравоохранения, и в то же время начинка, то есть само содержание работы нашего центра, ничем не отличается от любой успешной частной клиники или, может быть, какого-то европейского центра реабилитации.
Мы думаем в первую очередь о рентабельности реабилитационного процесса. Во всем должен быть смысл, должна быть осознанность. Если ты будешь просто формально действовать по какому-то протоколу, стандарту, но не станешь индивидуализировать его под запрос пациента, то никогда ни ты сам, ни родители ребенка не будете довольны результатом, и учреждение твое будет таким же серым, как многие, которые по шаблонам работают.
— Реабилитация — это весь мой путь врача. За 33 года работы я только два месяца вела прием участковым неврологом. А потом меня позвали в реабилитационный центр, и так начался мой путь в познании новой профессии.
Это были 90-е годы, когда о реабилитации мы знали очень мало. Мы шли по пути исцеления болезней, которые, к сожалению, неизлечимы. Мы ставили цели — приблизить ребенка с особенностями развития к варианту нормы.
Но отработав лет десять, в начале двухтысячных годов, я лично уже прекрасно понимала, что этот путь — ложный. Мы идем не туда. Многие мои коллеги вообще потеряли интерес к реабилитации. Было ощущение, будто бы ты опустился на самое дно: ты не видишь результатов своей работы, твои ожидания не совпадают с тем, что имеешь в реальности. Я начала понимать, что надо двигаться в другом направлении. Мудрость есть такая: «Оттолкнись от дна — и достигнешь вершины».
У меня было два пути, либо уйти и найти более интересную врачебную профессию, либо просто начать заниматься самообразованием, знакомиться с мировым опытом. И конечно, я для себя начала открывать невероятные вещи, которые оказалось, уже давно открыты в мире: и Международную классификацию функционирования, и технологии адаптации ребенка к возможностям окружающей среды и общества. И многие-многие вещи, которые сегодня уже приняты как догма.
Я поняла, что должна остаться в реабилитации, попытаться сделать так, чтобы у нас были самые лучшие технологии, которые сегодня имеются в мире, чтобы мы в чем-то даже их и превзошли.
Мой путь сложный, но сложный именно внутри меня как личности, потому что я не поменяла ни одного места работы: была врачом, затем заместителем главного врача, и с 2019 года — уже главным врачом учреждения. И уже более 10 лет являюсь главным внештатным специалистом в медицинской реабилитации региона.
— С детьми с ДЦП работает мультидисциплинарная команда. Какова в ней роль невролога?
— Я студентам рассказываю, что невролог — не самый важный элемент в реабилитационной команде. Но для диагностики заболевания, конечно, он нужен.
Хотя заведующим отделением нейрореабилитации у нас сегодня является невролог, потому что по статистике 90% проблем, которые мы реабилитируем — неврологические. Поэтому, конечно, базовое неврологическое образование сильно облегчает понимание болезни, помогает выстраиванию правильных алгоритмов, программ, да. Но невролог — не первое лицо в команде.
— В чем в принципе работа центра «Надежда» отличается от других реабилитационных центров?
— Всякий кулик свое болото хвалит, и я не перестаю говорить своим коллегам: «Вы работаете в уникальном центре». Мы находимся в системе государственного здравоохранения, и в то же время начинка, то есть само содержание работы нашего центра, ничем не отличается от любой успешной частной клиники или, может быть, какого-то европейского центра реабилитации.
Мы думаем в первую очередь о рентабельности реабилитационного процесса. Во всем должен быть смысл, должна быть осознанность. Если ты будешь просто формально действовать по какому-то протоколу, стандарту, но не станешь индивидуализировать его под запрос пациента, то никогда ни ты сам, ни родители ребенка не будете довольны результатом, и учреждение твое будет таким же серым, как многие, которые по шаблонам работают.
ДЦП в вопросах и ответах
Книга для родителей и специалистов — 5 разделов, 136 ответов на вопросы 120 иллюстраций. Бесплатно онлайн.
— Как вы осуществляете этот индивидуальный подход, в чем именно он выражается?
— Первый шаг любого реабилитолога — не только в нашем центре, сегодня это идеология развития реабилитации в стране — это использование самого важного инструмента, Международной классификации функционирования. Оценка функциональных возможностей ребенка — это очень важный компонент нашей реабилитационной работы. В это включена абсолютно вся команда: и эрго-, и кинезио-специалисты, и специалисты по альтернативной коммуникации, по подбору технических средств реабилитации.
Но это нужно не просто так, а для того, чтобы правильно поставить цели.
Причем, вы знаете, они не должны быть поставлены только специалистами. Ты никогда не будешь эффективен, если просто сам решишь, что этому ребенку надо. Если не будешь работать на запросы семьи, ты абсолютно бесполезен для этого ребенка.
— Первый шаг любого реабилитолога — не только в нашем центре, сегодня это идеология развития реабилитации в стране — это использование самого важного инструмента, Международной классификации функционирования. Оценка функциональных возможностей ребенка — это очень важный компонент нашей реабилитационной работы. В это включена абсолютно вся команда: и эрго-, и кинезио-специалисты, и специалисты по альтернативной коммуникации, по подбору технических средств реабилитации.
Но это нужно не просто так, а для того, чтобы правильно поставить цели.
Причем, вы знаете, они не должны быть поставлены только специалистами. Ты никогда не будешь эффективен, если просто сам решишь, что этому ребенку надо. Если не будешь работать на запросы семьи, ты абсолютно бесполезен для этого ребенка.
Самое главное — это найти консенсус с семьей, когда цели, поставленные родителями и специалистами, будут совпадать.
Вот это очень важный шаг, наверное, самый энергозатратный. Даже мои специалисты не всегда с первого раза могут убедить родителей в том, что вот это — потолок двигательных или психических возможностей ребенка, и надо все-таки пересмотреть свое отношение к болезни, не искать какие-то золотые волшебные таблетки, не ставить перед собой нереальные цели.
А потом надо выбрать технологии. Конечно, мы знаем систематические обзоры Ионы Новак, знаем весь перечень эффективных доказанных технологий. Но мы прекрасно понимаем, что одна и та же технология в разных семьях будет работать по-разному. Потому что к нам могут приезжать дети из обеспеченных семей, которые живут в коттеджах, где можно устроить целый тренажерный зал, а в других семьях все живут в одной комнате, и там даже нет места для технического средства реабилитации.
И, конечно, здесь команде приходится решать невероятно сложную задачу: выбрать технологию, которая, может быть, будет менее доказанная, чем какая-то другая, но вот этой конкретной семье подойдет.
Следующий шаг: отправляя ребенка домой, мы даем исчерпывающие рекомендации. Мы достигли цели, но на ней же нельзя остановиться, надо идти дальше. Надо работать в команде.
И вот когда говорят о реабилитации медицинской, коротком курсе, двухнедельном, я всегда говорю, что это не будет никогда иметь результат, если вы не проговорите все абсолютно нюансы жизни семьи, не узнаете, возможна ли вообще реализация той технологии, которую вы выбрали, потом, когда уйдет ребенок из центра.
А потом надо выбрать технологии. Конечно, мы знаем систематические обзоры Ионы Новак, знаем весь перечень эффективных доказанных технологий. Но мы прекрасно понимаем, что одна и та же технология в разных семьях будет работать по-разному. Потому что к нам могут приезжать дети из обеспеченных семей, которые живут в коттеджах, где можно устроить целый тренажерный зал, а в других семьях все живут в одной комнате, и там даже нет места для технического средства реабилитации.
И, конечно, здесь команде приходится решать невероятно сложную задачу: выбрать технологию, которая, может быть, будет менее доказанная, чем какая-то другая, но вот этой конкретной семье подойдет.
Следующий шаг: отправляя ребенка домой, мы даем исчерпывающие рекомендации. Мы достигли цели, но на ней же нельзя остановиться, надо идти дальше. Надо работать в команде.
И вот когда говорят о реабилитации медицинской, коротком курсе, двухнедельном, я всегда говорю, что это не будет никогда иметь результат, если вы не проговорите все абсолютно нюансы жизни семьи, не узнаете, возможна ли вообще реализация той технологии, которую вы выбрали, потом, когда уйдет ребенок из центра.
— Часто бывает ощущение, что родители ребенка с ДЦП как будто бы сами себе врачи: они выбирают реабилитационные центры, собирают в соцсетях деньги на эти центры. Как найти эту грань, чтобы врач не был командиром, но, с другой стороны, чтобы родители не были брошены?
— Вот важно отметить, что как только мама почувствует, что врачу не интересен ее ребенок, она не будет ничего делать из рекомендаций, она будет сама определять дальнейшую реабилитацию ребенка. Ты эффективен, если ты говоришь современным языком, рекомендуешь доказанные технологии, идешь на компромисс, выслушиваешь родителей и принимаешь их позицию. Каждый врач — это великий психолог. Потому что в реабилитации ты не просто лечишь пневмонию, ты работаешь с ребенком, который всю жизнь будет иметь проблему. И семье с этим жить. Поэтому, однозначно, это диалог с родителями.
— Как чаще всего бывает в вашей практике: есть какое-то оптимальное решение, которое улучшит жизнь ребенка, и нужно донести это до родителей? Или все-таки у родителей есть какая-то возможность маневра, возможность выбирать?
— Однозначно выбор есть. Предположим, мы видим у ребенка ухудшение: головка бедра уходит из вертлужной впадины, и мы понимаем, что через полгода, скорее всего, будет подвывих, потом вывих, и уже нужно будет оперативное лечение.
Мы, конечно, сначала однозначно обозначаем проблему, обсуждаем с мамой, почему это случилось. Если ребенок находится в ростовом скачке, то это логично, процессы природного роста могут усугубить двигательную ситуацию у детей. Другое дело, если ребенку уже 9 лет, и он не вырос ни на сантиметр. Ребенок пошел в школу. Естественно, мама стала больше уделять внимание развитию умственных его способностей, и как-то отставила на второй план позиционирование, использование технических средств, ортезов, курсы реабилитации, чтобы элементарно где-то скорректировать тонус у ребенка.
Мы начинаем маме сначала объяснять проблему, а потом она же сама нам задает вопрос, что должна сделать, чтобы выйти из этого тупика.
— Вот важно отметить, что как только мама почувствует, что врачу не интересен ее ребенок, она не будет ничего делать из рекомендаций, она будет сама определять дальнейшую реабилитацию ребенка. Ты эффективен, если ты говоришь современным языком, рекомендуешь доказанные технологии, идешь на компромисс, выслушиваешь родителей и принимаешь их позицию. Каждый врач — это великий психолог. Потому что в реабилитации ты не просто лечишь пневмонию, ты работаешь с ребенком, который всю жизнь будет иметь проблему. И семье с этим жить. Поэтому, однозначно, это диалог с родителями.
— Как чаще всего бывает в вашей практике: есть какое-то оптимальное решение, которое улучшит жизнь ребенка, и нужно донести это до родителей? Или все-таки у родителей есть какая-то возможность маневра, возможность выбирать?
— Однозначно выбор есть. Предположим, мы видим у ребенка ухудшение: головка бедра уходит из вертлужной впадины, и мы понимаем, что через полгода, скорее всего, будет подвывих, потом вывих, и уже нужно будет оперативное лечение.
Мы, конечно, сначала однозначно обозначаем проблему, обсуждаем с мамой, почему это случилось. Если ребенок находится в ростовом скачке, то это логично, процессы природного роста могут усугубить двигательную ситуацию у детей. Другое дело, если ребенку уже 9 лет, и он не вырос ни на сантиметр. Ребенок пошел в школу. Естественно, мама стала больше уделять внимание развитию умственных его способностей, и как-то отставила на второй план позиционирование, использование технических средств, ортезов, курсы реабилитации, чтобы элементарно где-то скорректировать тонус у ребенка.
Мы начинаем маме сначала объяснять проблему, а потом она же сама нам задает вопрос, что должна сделать, чтобы выйти из этого тупика.
Есть три кита: физическая терапия, позиционирование, коррекция избыточного повышенного мышечного тонуса. Но все это можно делать абсолютно разными технологиями.
Ту же физическую терапию вы можете делать сами, можете прийти к нам в центр, можете нанять дорогостоящих физических терапевтов, можете выбрать любую авторскую методику.
Мы всегда слушаем родителей. Я знаю детей, которым мы делаем уже 10 лет ботулинотерапию и безо всяких осложнений добиваемся результата: ребенок выходит в подростковый возраст вообще ни разу не оперированный. Но есть родители, которые не принимают эту технологию, и мы не настаиваем.
У каждого родителя есть выбор. Кто-то делает селективно-дорсальную ризотомию, кто-то — баклофеновую помпу. Каждая методика имеет право на существование, просто мы должны сами перестроиться, чтобы ребенка реабилитировать с учетом того метода, который родители посчитали нужным.
К сожалению, некоторые технологии оперативных вмешательств, такие как операции по Ульзибату, ослабляют детей. Мы видим серьезные осложнения, которые приходится исправлять всем вместе. Но, тем не менее, мы ведь принимаем позицию родителей и продолжаем работать. Нет же такого, что мы говорим: «Лечитесь там, если вы нам не доверяете».
Да, вы выбираете, но, если не принимаете нашу позицию, ответственность давайте делить на двоих. И если вдруг вы получаете осложнения вместо желанного результата, давайте обсудим, в чем все-таки проблема, и почему так получилось.
Мы всегда слушаем родителей. Я знаю детей, которым мы делаем уже 10 лет ботулинотерапию и безо всяких осложнений добиваемся результата: ребенок выходит в подростковый возраст вообще ни разу не оперированный. Но есть родители, которые не принимают эту технологию, и мы не настаиваем.
У каждого родителя есть выбор. Кто-то делает селективно-дорсальную ризотомию, кто-то — баклофеновую помпу. Каждая методика имеет право на существование, просто мы должны сами перестроиться, чтобы ребенка реабилитировать с учетом того метода, который родители посчитали нужным.
К сожалению, некоторые технологии оперативных вмешательств, такие как операции по Ульзибату, ослабляют детей. Мы видим серьезные осложнения, которые приходится исправлять всем вместе. Но, тем не менее, мы ведь принимаем позицию родителей и продолжаем работать. Нет же такого, что мы говорим: «Лечитесь там, если вы нам не доверяете».
Да, вы выбираете, но, если не принимаете нашу позицию, ответственность давайте делить на двоих. И если вдруг вы получаете осложнения вместо желанного результата, давайте обсудим, в чем все-таки проблема, и почему так получилось.
Зачем нужен регистр детей с ДЦП
— У вас в центре есть программа профилактики вывиха тазобедренного сустава. Вы не могли бы рассказать, что это за программа?
— В 2013 году я познакомилась со шведским регистром CPUP и его автором Гуннаром Хегглундом, он потом нас достаточно долго сопровождал. Эта система стартовала в Швеции в 1994 году. Сейчас в регистре CPUP насчитывается 8077 человек, причем из них только половина — это дети до 18 лет, остальные уже взрослые, и их по-прежнему наблюдают.
Там, конечно, были уникальные результаты. Очень сильно уменьшилось количество контрактур, причем не за счет того, что увеличилась оперативная активность — она, наоборот, снизилась. Уменьшилась частота сколиозов с углом Кобба 40 градусов и выше (Cobb angle, используется в качестве стандартного показателя для определения и отслеживания прогрессирования сколиоза — прим. ред.), даже уменьшилось число детей с деформацией по типу порыва ветра, которая практически не поддается коррекции.
Если до вступления в программу 11% детей имели индекс Реймерса 40% и более, то через 10 лет наблюдения в программе этот показатель был равен 0,4%. Я смотрела их последний отчет, за 2023 год: этот показатель держится уже на протяжении 30 лет: в регистре только 0,4% детей с индексом Реймерса 40% и больше.
Но шведы ушли очень далеко: там это национальная программа, данные собираются в едином информационном центре в городе Лунд. Они анализируют, как идет охват детей физической терапией, эрготерапией. 90% детей ДЦП в этом регистре охвачены физической терапией, 85% — эрготерапией.
— Вам удалось построить аналог шведской программы — результаты сопоставимы?
— В Тюмени сложно было реализовать эту систему, потому что у нас на тот момент не было ни физических терапевтов, ни эрготерапевтов. А в программе, в основном, наблюдение было не врачебное — его как раз осуществляли люди реабилитационных специальностей.
Я считаю, что мы на хорошем пути. Раньше у 43% детей был индекс Реймерса 40% и больше, сейчас мы его уменьшили до 9% — практически в 5 раз. Я считаю, что это очень хороший показатель. Но произошло это только благодаря активным хирургическим программам, потому что система реабилитации на тот момент еще не была перестроена и нацелена на развитие постурального менеджмента.
У нас в Тюмени пока не развита своя ортопедия и хирургия, поэтому мы работаем с федеральными учреждениями. А они на высокотехнологичную операцию не берут маленьких детей: стараются их дорастить до какого-то определенного возраста, чтобы ребенок был готов соматически и по весоростовым показателям. То есть, этот высокий процент держится не потому, что мы не знаем об этой проблеме, а потому что ребенок находится в каком-то периоде ожидания оперативного вмешательства.
Если в Швеции с индексом 33% уже берут детей на превентивные операции на мышечном аппарате, делают аддуктотомию, субспинальную миотомию для того, чтобы сдержать процесс миграции, то у нас нет такой доступности мышечных операций. Этот период отсрочки, период ожидания создает сегодня такую статистику.
— Но у вас есть свой регистр детей с ДЦП?
— Профилактика — это ведение регистра. Все дети, которые к приходят к нам в центр, автоматически туда заносятся, сейчас в регистре 858 детей. Но это не все дети с церебральным параличом в Тюменской области, а только те, кто выбирает наше реабилитационное учреждение.
Все дети заносятся в определенную программу. Естественно, мы видим, к какому уровню двигательного развития относится ребенок, и для каждого уровня разработан алгоритм рентгенологического обследования тазобедренных суставов. Например, если ребенок находится в четвертом уровне по системе GMFCS, и ему три года, то мы должны делать ему снимки с регулярностью раз в шесть месяцев. У нас есть администратор, который является держателем этого регистра, он напоминает родителям о том, что подошло время контрольного снимка тазобедренного сустава, с которым потом нужно прийти на врачебную комиссию.
Мы спрашиваем у родителей: «Что вы делаете дома, какие у вас технические средства, а носите ли вы ортезы и все ли у вас физической активностью нормально». Ребенок, кроме того, что проходит реабилитацию, приходит еще на вот эти врачебные консилиумы, где идет сверка событий.
Конечно, мы не только тазобедренный снимаем — и голеностопные суставы, и позвоночник, и колено. Мы же следим за всеми ортопедическими проблемами. Но основная проблема, для которой создавался этот реестр — это именно контроль состояния тазобедренного сустава.
Потом мы сравниваем снимки с предыдущими результатами и понимаем, находится ли ребенок в зеленой зоне — это индекс Реймерса до 33%. В желтую зону он попадает при показателях 33–40%, 40% и более — это уже красная зона. Дальше вырабатывается определенный маршрут.
Если это зеленая зона, мы спокойно, без какой-то гонки, выясняем, что делает ребенок дома, что предпринимают родители, какие курсы он проходил, с какой эффективностью. Мы определяем все риски. Если у ребенка будет ростовой скачок, вся эта зеленая зона может в один год превратиться в красную. И поэтому, конечно, мы говорим: «Следующий наш контакт запланирован через полгода, но ребенок может вырасти. Если вы почувствуете, что отведение тазобедренных суставов становится более жестким, что ребенок резко растет, мышечный тонус нарастает, не ждите полгода, мы будем отслеживать изменения и менять тактику».
Если ребенок уже в желтой светофорной зоне, это уже группа риска. Мы либо прямо очень сильно активизируем реабилитационные мероприятия, либо даже начинаем консультироваться с ортопедами-хирургами на предмет превентивных хирургических вмешательств на мышечной ткани, чтобы не ждать того момента, когда придется проводить операцию уже на костях.
Но если ребенок в красной светофорной зоне, мы просто начинаем говорить с ортопедами и хирургами, чтобы провести эту операцию, готовимся к ней. Не все дети готовы физически, соматически к этим операциям. Ведь ДЦП — это сочетанная патология, столько коморбидных (существующих одновременно у одного пациента, которые взаимосвязаны и взаимно усугубляют друг друга — прим. ред.) проблем: и эпилептические припадки, и дисфагия, и остеопороз. Мы понимаем, что успех операции будет зависеть от того, насколько ребенок готов к такому серьезному вмешательству.
Мы всегда говорим о том, что лучше сделать операцию, когда это еще не полный вывих тазобедренного сустава, потому что тогда реабилитация будет гораздо эффективней. И сделать ее нужно еще на растущем скелете, потому что в 14 лет операция на тазобедренном суставе бесполезна. Это может быть паллиативная операция, но мы уже не сможем ребенку восстановить ту двигательную активность, с которой он мог бы развиваться.
— В 2013 году я познакомилась со шведским регистром CPUP и его автором Гуннаром Хегглундом, он потом нас достаточно долго сопровождал. Эта система стартовала в Швеции в 1994 году. Сейчас в регистре CPUP насчитывается 8077 человек, причем из них только половина — это дети до 18 лет, остальные уже взрослые, и их по-прежнему наблюдают.
Там, конечно, были уникальные результаты. Очень сильно уменьшилось количество контрактур, причем не за счет того, что увеличилась оперативная активность — она, наоборот, снизилась. Уменьшилась частота сколиозов с углом Кобба 40 градусов и выше (Cobb angle, используется в качестве стандартного показателя для определения и отслеживания прогрессирования сколиоза — прим. ред.), даже уменьшилось число детей с деформацией по типу порыва ветра, которая практически не поддается коррекции.
Если до вступления в программу 11% детей имели индекс Реймерса 40% и более, то через 10 лет наблюдения в программе этот показатель был равен 0,4%. Я смотрела их последний отчет, за 2023 год: этот показатель держится уже на протяжении 30 лет: в регистре только 0,4% детей с индексом Реймерса 40% и больше.
Но шведы ушли очень далеко: там это национальная программа, данные собираются в едином информационном центре в городе Лунд. Они анализируют, как идет охват детей физической терапией, эрготерапией. 90% детей ДЦП в этом регистре охвачены физической терапией, 85% — эрготерапией.
— Вам удалось построить аналог шведской программы — результаты сопоставимы?
— В Тюмени сложно было реализовать эту систему, потому что у нас на тот момент не было ни физических терапевтов, ни эрготерапевтов. А в программе, в основном, наблюдение было не врачебное — его как раз осуществляли люди реабилитационных специальностей.
Я считаю, что мы на хорошем пути. Раньше у 43% детей был индекс Реймерса 40% и больше, сейчас мы его уменьшили до 9% — практически в 5 раз. Я считаю, что это очень хороший показатель. Но произошло это только благодаря активным хирургическим программам, потому что система реабилитации на тот момент еще не была перестроена и нацелена на развитие постурального менеджмента.
У нас в Тюмени пока не развита своя ортопедия и хирургия, поэтому мы работаем с федеральными учреждениями. А они на высокотехнологичную операцию не берут маленьких детей: стараются их дорастить до какого-то определенного возраста, чтобы ребенок был готов соматически и по весоростовым показателям. То есть, этот высокий процент держится не потому, что мы не знаем об этой проблеме, а потому что ребенок находится в каком-то периоде ожидания оперативного вмешательства.
Если в Швеции с индексом 33% уже берут детей на превентивные операции на мышечном аппарате, делают аддуктотомию, субспинальную миотомию для того, чтобы сдержать процесс миграции, то у нас нет такой доступности мышечных операций. Этот период отсрочки, период ожидания создает сегодня такую статистику.
— Но у вас есть свой регистр детей с ДЦП?
— Профилактика — это ведение регистра. Все дети, которые к приходят к нам в центр, автоматически туда заносятся, сейчас в регистре 858 детей. Но это не все дети с церебральным параличом в Тюменской области, а только те, кто выбирает наше реабилитационное учреждение.
Все дети заносятся в определенную программу. Естественно, мы видим, к какому уровню двигательного развития относится ребенок, и для каждого уровня разработан алгоритм рентгенологического обследования тазобедренных суставов. Например, если ребенок находится в четвертом уровне по системе GMFCS, и ему три года, то мы должны делать ему снимки с регулярностью раз в шесть месяцев. У нас есть администратор, который является держателем этого регистра, он напоминает родителям о том, что подошло время контрольного снимка тазобедренного сустава, с которым потом нужно прийти на врачебную комиссию.
Мы спрашиваем у родителей: «Что вы делаете дома, какие у вас технические средства, а носите ли вы ортезы и все ли у вас физической активностью нормально». Ребенок, кроме того, что проходит реабилитацию, приходит еще на вот эти врачебные консилиумы, где идет сверка событий.
Конечно, мы не только тазобедренный снимаем — и голеностопные суставы, и позвоночник, и колено. Мы же следим за всеми ортопедическими проблемами. Но основная проблема, для которой создавался этот реестр — это именно контроль состояния тазобедренного сустава.
Потом мы сравниваем снимки с предыдущими результатами и понимаем, находится ли ребенок в зеленой зоне — это индекс Реймерса до 33%. В желтую зону он попадает при показателях 33–40%, 40% и более — это уже красная зона. Дальше вырабатывается определенный маршрут.
Если это зеленая зона, мы спокойно, без какой-то гонки, выясняем, что делает ребенок дома, что предпринимают родители, какие курсы он проходил, с какой эффективностью. Мы определяем все риски. Если у ребенка будет ростовой скачок, вся эта зеленая зона может в один год превратиться в красную. И поэтому, конечно, мы говорим: «Следующий наш контакт запланирован через полгода, но ребенок может вырасти. Если вы почувствуете, что отведение тазобедренных суставов становится более жестким, что ребенок резко растет, мышечный тонус нарастает, не ждите полгода, мы будем отслеживать изменения и менять тактику».
Если ребенок уже в желтой светофорной зоне, это уже группа риска. Мы либо прямо очень сильно активизируем реабилитационные мероприятия, либо даже начинаем консультироваться с ортопедами-хирургами на предмет превентивных хирургических вмешательств на мышечной ткани, чтобы не ждать того момента, когда придется проводить операцию уже на костях.
Но если ребенок в красной светофорной зоне, мы просто начинаем говорить с ортопедами и хирургами, чтобы провести эту операцию, готовимся к ней. Не все дети готовы физически, соматически к этим операциям. Ведь ДЦП — это сочетанная патология, столько коморбидных (существующих одновременно у одного пациента, которые взаимосвязаны и взаимно усугубляют друг друга — прим. ред.) проблем: и эпилептические припадки, и дисфагия, и остеопороз. Мы понимаем, что успех операции будет зависеть от того, насколько ребенок готов к такому серьезному вмешательству.
Мы всегда говорим о том, что лучше сделать операцию, когда это еще не полный вывих тазобедренного сустава, потому что тогда реабилитация будет гораздо эффективней. И сделать ее нужно еще на растущем скелете, потому что в 14 лет операция на тазобедренном суставе бесполезна. Это может быть паллиативная операция, но мы уже не сможем ребенку восстановить ту двигательную активность, с которой он мог бы развиваться.
Профилактика построена на том, что мы не выпускаем ребенка из внимания. Мы за ним постоянно наблюдаем согласно алгоритму, стандарту.
— Почему так много внимания уделяется именно тазобедренному суставу?
— Это, наверное, самая инвалидизирующая ортопедическая проблема у детей. Вывих ТБС — это потеря активности, болевой синдром. Это, пожалуй, наиболее угрожающее состояние. В Европе описывают такую ужасную триаду: идет вывих передний — с одной стороны, задний — с другой стороны, формирование косого таза, за ним формирование сколиоза, который приводит к жизнеугрожающим состояниям. Ребенка просто скручивает. А все начинается именно с вывиха, с миграции головки. Поэтому главное, для чего создавались эти национальные программы и в Швеции, и в Австралии, и в Канаде, — это профилактика вывиха бедра.
Мы посмотрели на эту проблему шире: разработали алгоритм обследования коленного сустава с расчетом индекса Катона-Дешана, делали снимки позвоночника и рассчитывали угол Кобба. Но сама программа CPUP изначально этого не включала.
— Это, наверное, самая инвалидизирующая ортопедическая проблема у детей. Вывих ТБС — это потеря активности, болевой синдром. Это, пожалуй, наиболее угрожающее состояние. В Европе описывают такую ужасную триаду: идет вывих передний — с одной стороны, задний — с другой стороны, формирование косого таза, за ним формирование сколиоза, который приводит к жизнеугрожающим состояниям. Ребенка просто скручивает. А все начинается именно с вывиха, с миграции головки. Поэтому главное, для чего создавались эти национальные программы и в Швеции, и в Австралии, и в Канаде, — это профилактика вывиха бедра.
Мы посмотрели на эту проблему шире: разработали алгоритм обследования коленного сустава с расчетом индекса Катона-Дешана, делали снимки позвоночника и рассчитывали угол Кобба. Но сама программа CPUP изначально этого не включала.
Эффективная помощь — ранняя и постоянная
— Часто говорят, что чем раньше начать реабилитацию, тем лучше. С какого момента нужно родителям бить тревогу?
— У меня есть не очень хороший пример, когда мама, приходя на прием в поликлинику, постоянно говорила врачам, что ребенок поздно начал удерживать голову, ребенок не переворачивается, ребенок не хочет садиться. Ее успокаивали: «Да все само придет, все дети развиваются индивидуально». Вот ни в коем случае не надо этому верить. Сходите, выслушайте еще одно мнение. Третье мнение выслушайте. Идите в экспертное учреждение, туда, где занимаются только проблемами детского церебрального паралича. Может быть, вам скажут, что это темповая задержка, и можно будет успокоиться.
Ведь индикаторы детского церебрального паралича видны не в возрасте одного года. Мы его можем заподозрить с большой степенью вероятности уже в 5 месяцев: если мы видим, что не угасают позотонические рефлексы (рефлексы новорожденных, которые играют ключевую роль в развитии моторных навыков младенцев — прим. ред.), значит, будут проблемы. Тройка есть такая у нас: асимметричный шейно-тонический, симметричный шейно-тонический и лабиринтный рефлекс. После пяти месяцев мы их вообще не должны видеть глазами.
Но если невролог определяет эти позотонические рефлексы, это говорит о том, что двигательное развитие ребенка пойдет по очень проблемному пути. Но в какой степени — мы с достоверностью в 95% можем сказать только после полутора лет. Даже если в 6 месяцев у детей одинаковые двигательные возможности, в полтора года один ребенок может развиваться по траектории второго уровня по системе GMFCS, а другой — по траектории четвертого. Так что до полутора лет прогнозы — неблагодарное дело. Но предположить, есть ли диагноз ДЦП или нет, можно очень рано. И, конечно, надо с этим работать.
Представляете, если здоровый ребенок совершает миллионы движений в день, то ребенок, который имеет спастичность — только тысячи. А скелет двигательной системы растет только в движении: сначала — трубчатая кость, потом за ней начинают расти мышцы. Но мышца растет только при нормальном уровне активности. А если у ребенка этот уровень снижен, соответственно, и кость растет дефектно, и мышцы не растут, и возникают вторичные ортопедические проблемы, которые сопровождают любое неврологическое заболевание: вывихи, деформации.
Если ребенок может ходить только в технических средствах, то вероятность вывиха тазобедренного сустава — 40%. Если он будет только сидеть — уже 70%, а если только лежать — 90%. Геометрическая прогрессия, которая зависит от того, какой уровень активности есть у детей. И поэтому мы в любом случае должны заместить эту двигательную активность реабилитационными мероприятиями. Понятно, что одного реабилитолога тут будет недостаточно. И короткими двухнедельными курсами ничего не сделать.
Сегодня программа раннего вмешательства направлена на то, чтобы создать среду для ребенка, научить родителей, и заниматься постоянно, дома. Поэтому, если положено ребенку встать в 10 месяцев и ходить вдоль опоры, значит даже лежачему ребенку с пятым уровнем по системе GMFCS мы должны предоставить эту возможность, потому что не будет развиваться нормально двигательная система и скелет, если мы не обеспечим вовремя вертикальные позы.
Другой вопрос, что первые полтора–два года мы теряем, потому что у нас, во-первых, нет большой, хорошей линейки эффективных средств технической реабилитации для маленьких детей, во-вторых, родители в это время не очень активны, потому что еще думают, что все само пройдет. Это огромная проблема.
— У меня есть не очень хороший пример, когда мама, приходя на прием в поликлинику, постоянно говорила врачам, что ребенок поздно начал удерживать голову, ребенок не переворачивается, ребенок не хочет садиться. Ее успокаивали: «Да все само придет, все дети развиваются индивидуально». Вот ни в коем случае не надо этому верить. Сходите, выслушайте еще одно мнение. Третье мнение выслушайте. Идите в экспертное учреждение, туда, где занимаются только проблемами детского церебрального паралича. Может быть, вам скажут, что это темповая задержка, и можно будет успокоиться.
Ведь индикаторы детского церебрального паралича видны не в возрасте одного года. Мы его можем заподозрить с большой степенью вероятности уже в 5 месяцев: если мы видим, что не угасают позотонические рефлексы (рефлексы новорожденных, которые играют ключевую роль в развитии моторных навыков младенцев — прим. ред.), значит, будут проблемы. Тройка есть такая у нас: асимметричный шейно-тонический, симметричный шейно-тонический и лабиринтный рефлекс. После пяти месяцев мы их вообще не должны видеть глазами.
Но если невролог определяет эти позотонические рефлексы, это говорит о том, что двигательное развитие ребенка пойдет по очень проблемному пути. Но в какой степени — мы с достоверностью в 95% можем сказать только после полутора лет. Даже если в 6 месяцев у детей одинаковые двигательные возможности, в полтора года один ребенок может развиваться по траектории второго уровня по системе GMFCS, а другой — по траектории четвертого. Так что до полутора лет прогнозы — неблагодарное дело. Но предположить, есть ли диагноз ДЦП или нет, можно очень рано. И, конечно, надо с этим работать.
Представляете, если здоровый ребенок совершает миллионы движений в день, то ребенок, который имеет спастичность — только тысячи. А скелет двигательной системы растет только в движении: сначала — трубчатая кость, потом за ней начинают расти мышцы. Но мышца растет только при нормальном уровне активности. А если у ребенка этот уровень снижен, соответственно, и кость растет дефектно, и мышцы не растут, и возникают вторичные ортопедические проблемы, которые сопровождают любое неврологическое заболевание: вывихи, деформации.
Если ребенок может ходить только в технических средствах, то вероятность вывиха тазобедренного сустава — 40%. Если он будет только сидеть — уже 70%, а если только лежать — 90%. Геометрическая прогрессия, которая зависит от того, какой уровень активности есть у детей. И поэтому мы в любом случае должны заместить эту двигательную активность реабилитационными мероприятиями. Понятно, что одного реабилитолога тут будет недостаточно. И короткими двухнедельными курсами ничего не сделать.
Сегодня программа раннего вмешательства направлена на то, чтобы создать среду для ребенка, научить родителей, и заниматься постоянно, дома. Поэтому, если положено ребенку встать в 10 месяцев и ходить вдоль опоры, значит даже лежачему ребенку с пятым уровнем по системе GMFCS мы должны предоставить эту возможность, потому что не будет развиваться нормально двигательная система и скелет, если мы не обеспечим вовремя вертикальные позы.
Другой вопрос, что первые полтора–два года мы теряем, потому что у нас, во-первых, нет большой, хорошей линейки эффективных средств технической реабилитации для маленьких детей, во-вторых, родители в это время не очень активны, потому что еще думают, что все само пройдет. Это огромная проблема.
Читайте также
«Клинические специалисты всегда должны думать о том, какой механизм стоит за терапией». Вторая часть интервью с профессором Ионой Новак
9 вопросов и ответов про Иону Новак и обзор программ помощи при ДЦП. Разбираемся, что из себя представляет «Систематический обзор программ профилактики и помощи для детей с церебральным параличом»
9 вопросов и ответов про Иону Новак и обзор программ помощи при ДЦП. Разбираемся, что из себя представляет «Систематический обзор программ профилактики и помощи для детей с церебральным параличом»
— Вы как раз заговорили о курсовой реабилитации. Это же очень частое явление: у ребенка в центре были какие-то успехи, а потом дома они очень быстро сошли на нет. Что могут сделать родители? Только заниматься с ребенком дома самостоятельно?
— Мы понимаем, что курсовая реабилитация неэффективна. Однозначно процесс реабилитации — это жизнь. Нужно, чтобы у семьи был куратор, который бы о чем-то напоминал или показывал, как это правильно делать.
Почти 10 лет назад вышла концепция развития ранней помощи в Российской Федерации. Наша страна встала на путь разработки единых подходов раннего вмешательства у детей с особенностями развития. Разные проекты стали появляться, в Москве «Уверенное начало» очень эффективно отработало. Пока это все, понятно, были не государственные деньги.
И вот сейчас наконец-то заговорили о том, что стандарт оказания услуг по раненому вмешательству не должен быть каким-то курсовым воздействием. Эта подмена понятий наконец-то ушла. Ранняя помощь не равна реабилитации. Специалист по раннему вмешательству в себе объединяет компетенции и эрготерапевта, и физического терапевта. Он знает, что подкрутить в техническом средстве и сказать: «Он у вас неправильно сидит, коленками вверх, без опоры на ноги», может дома какую-то игровую среду сделать.
— Мы понимаем, что курсовая реабилитация неэффективна. Однозначно процесс реабилитации — это жизнь. Нужно, чтобы у семьи был куратор, который бы о чем-то напоминал или показывал, как это правильно делать.
Почти 10 лет назад вышла концепция развития ранней помощи в Российской Федерации. Наша страна встала на путь разработки единых подходов раннего вмешательства у детей с особенностями развития. Разные проекты стали появляться, в Москве «Уверенное начало» очень эффективно отработало. Пока это все, понятно, были не государственные деньги.
И вот сейчас наконец-то заговорили о том, что стандарт оказания услуг по раненому вмешательству не должен быть каким-то курсовым воздействием. Эта подмена понятий наконец-то ушла. Ранняя помощь не равна реабилитации. Специалист по раннему вмешательству в себе объединяет компетенции и эрготерапевта, и физического терапевта. Он знает, что подкрутить в техническом средстве и сказать: «Он у вас неправильно сидит, коленками вверх, без опоры на ноги», может дома какую-то игровую среду сделать.
Сегодня к специалистам по раннему вмешательству несерьезно относятся, пытаются из социальных работников, из педагогов, из педиатров, сделать специалиста по раннему вмешательству. Это утопия, это неэффективный путь. Мы никогда не получим отдачи, пока мы не вырастим специалиста по раннему вмешательству, который будет рядом, как семейный врач.
Поэтому основное отличие состоит в том, что во многих западных странах помощь максимально приближена к семье. Как правило, это амбулаторные центры рядом с домом, куда родители могут отводить ребенка на занятия с реабилитологом несколько раз в неделю. Ровно также, как другого ребенка водят в спортивную секцию. У нас же исторически помощь была централизована в крупных многопрофильных стационарах. В этом есть определенный резон с учетом размеров нашей страны и доступности, но они не заменят центров у дома.
— Каким образом лучше организовать помощь семьям с детьми с церебральным параличом в России?
— При ДЦП помощь должна быть регулярной, здесь невозможно обойтись короткими интенсивными курсами реабилитации. Если дети проходят реабилитацию только в стационарах, то оказываются оторванными от обычной жизни, семьи, родных. С другой стороны, федеральные центры сейчас — это место, где работают хорошо подготовленные и критически мыслящие специалисты, готовые к развитию и открытые новым знаниям, и это тоже определенный катализатор позитивных изменений. Поэтому федеральные центры могут оставаться точками контроля состояния детей и источниками внедрения современных концепций, обучения специалистов.
Кроме того, с учетом размеров нашей страны и низкой доступности помощи, мы будем вынуждены что-то централизовать. Возможным решением является компромисс между высокотехнологичной медициной, которая может быть только в небольшом количестве на базе крупных центров, и помощью менее технологичной, но регулярной и максимально адаптированной к потребностям ребенка и семьи. Лучше, чтобы такая поддержка была близко к дому, и ребенок занимался регулярно, а не проходил два-три курса в год.
— Какая это может быть помощь?
— С одной стороны, нужна двигательная реабилитация, потому что при ДЦП мы по определению сталкиваемся с нарушениями моторики. В этом участвует реабилитолог, и специалисты физической терапии. Но нельзя забывать про повседневную адаптацию ребенка, этим занимаются эрготерапевты — обучение самообслуживанию, игре, бытовым навыкам, приспособление среды, правильное позиционирование. Плюс нужны педагоги-дефектологи, логопеды. Эти направления регулярной помощи должны быть максимально приближены к семье.
Кстати, у нас пока в реабилитации ДЦП крайне мало внимания уделяют альтернативной и дополненной коммуникации — способам общения с неговорящим или малоговорящим человеком. Не всех детей с ДЦП можно обучить говорить в привычном смысле слова. Где-то это невозможно физиологически, как невозможно, например, научить ходить. Но, если с ходьбой мы уже привыкли, что можно использовать вспомогательные средства, то альтернативные способы общения — это пока для многих семей и даже для специалистов не так очевидно, но крайне важно для ребенка.
— Каким образом лучше организовать помощь семьям с детьми с церебральным параличом в России?
— При ДЦП помощь должна быть регулярной, здесь невозможно обойтись короткими интенсивными курсами реабилитации. Если дети проходят реабилитацию только в стационарах, то оказываются оторванными от обычной жизни, семьи, родных. С другой стороны, федеральные центры сейчас — это место, где работают хорошо подготовленные и критически мыслящие специалисты, готовые к развитию и открытые новым знаниям, и это тоже определенный катализатор позитивных изменений. Поэтому федеральные центры могут оставаться точками контроля состояния детей и источниками внедрения современных концепций, обучения специалистов.
Кроме того, с учетом размеров нашей страны и низкой доступности помощи, мы будем вынуждены что-то централизовать. Возможным решением является компромисс между высокотехнологичной медициной, которая может быть только в небольшом количестве на базе крупных центров, и помощью менее технологичной, но регулярной и максимально адаптированной к потребностям ребенка и семьи. Лучше, чтобы такая поддержка была близко к дому, и ребенок занимался регулярно, а не проходил два-три курса в год.
— Какая это может быть помощь?
— С одной стороны, нужна двигательная реабилитация, потому что при ДЦП мы по определению сталкиваемся с нарушениями моторики. В этом участвует реабилитолог, и специалисты физической терапии. Но нельзя забывать про повседневную адаптацию ребенка, этим занимаются эрготерапевты — обучение самообслуживанию, игре, бытовым навыкам, приспособление среды, правильное позиционирование. Плюс нужны педагоги-дефектологи, логопеды. Эти направления регулярной помощи должны быть максимально приближены к семье.
Кстати, у нас пока в реабилитации ДЦП крайне мало внимания уделяют альтернативной и дополненной коммуникации — способам общения с неговорящим или малоговорящим человеком. Не всех детей с ДЦП можно обучить говорить в привычном смысле слова. Где-то это невозможно физиологически, как невозможно, например, научить ходить. Но, если с ходьбой мы уже привыкли, что можно использовать вспомогательные средства, то альтернативные способы общения — это пока для многих семей и даже для специалистов не так очевидно, но крайне важно для ребенка.
ДЦП в вопросах и ответах
Книга для родителей и специалистов — 5 разделов, 136 ответов на вопросы 120 иллюстраций. Бесплатно онлайн.
— А иппотерапия и дельфинотерапия — это рабочие методы реабилитации?
— Самое главное, какие задачи поставлены в этой терапии. Если, например, вашему ребенку назначат иппотерапию и скажут, что это для того, чтобы он пошел самостоятельно, то сразу неправильно поставленная задача полностью дискредитирует технологию. Другое дело, если вам скажут, что от этого улучшился эмоциональный фон ребенка и он приобретет уверенность в удержании позы сидя, потому что держаться на лошади — это ведь та же самая физическая терапия, но с присутствием большого теплого животного.
У ребенка появляется мотивационный фактор, он начинает совершать движение не ради движения, а ради общения с животным, или чтобы быть, как здоровые сверстники, которые ездят на лошади.
Да, в первых систематизированных обзорах Ионы Новак было очень скептическое отношение к иппотерапии: никакой доказанной эффективности, ни к каким положительным результатам она не приводит.
Но уже есть работы, которые говорят о том, что при правильной постановке цели, иппотерапия приводит к положительным результатам по МКФ, доказанно. Но это все равно пока не самый высокий уровень доказательности, и иппотерапия — это не технология первой очереди выбора, которую мы предложим ребенку.
Про дельфинов у меня свое личное мнение. Я очень люблю дельфинов. Это не доказано ничем, не уловлено ничем, никакими инструментальными методами, но это большое животное, которое подает сигналы, которые могут каким-то образом, еще неразведанным путем, воздействовать на мозг ребенка. Это не доказано сегодня, но все равно мы видим улучшение эмоционального фона у детей, улучшение внимания, концентрации. Я считаю, что это просто стресс, мощный афферентный импульс (нервный импульс, поступающий в центральную нервную систему от органов чувств — прим. ред.), который запускает что-то, находящееся в неактивном состоянии. Это как когда ребенок не говорил, но пошел в детский сад и начал. Потому что идет просто невероятный поток афферентной импульсации, такая избыточная стимуляция.
— Есть ли какие-то откровенно вредные способы реабилитации?
— Мы больше все-таки говорим о бесполезности методов. Он может быть невредным, но ни к чему не приводящим. Опять же, метод может быть бесполезен для осуществления какой-то цели. То есть, если мы электрофорезом с эуфиллином хотим ребенка заставить ходить самостоятельно, то это нереально. Но если мы электрофорезом с эуфиллином хотим локально улучшить микроциркуляцию, то этого мы добьемся.
Бесполезных методов много. Вредными я считаю те методы, которые могут нанести ущерб вообще любому организму: и здоровому, и с особенностями развития. Когда берут экстракты каких-то жучков, червячков, пытаются лечить малыми дозами каких-то ядов.
Думаю, каждая семья должна все-таки выбрать для себя какого-то куратора. Не обязательно, чтобы это был врач, это может быть физический терапевт, эрготерапевт, логопед, психолог. В какой сфере испытывает проблемы семья с ребенком, по этому направлению куратор и должен быть выбран. Просто в интернете это точно нельзя выбирать. Нужен какой-то специалист.
Бывает такое, что в какой-то степени технология будет эффективна, а в какой-то не просто бесполезна, а может нанести вред.
Когда я вижу реабилитационный центр, где по 6 часов массажируют детей, где до 8 часов в день физической активности, то это, конечно, может навредить организму. Представьте себе, что вы 8 часов в день занимаетесь спортом! Когда у ребенка с восьми утра до восьми вечера идут какие-то процедуры: и лазер, и клизмы, и логопед работает, я считаю, что вот это тоже может быть вредно. Больше 3,5–4 часов ребенок вообще не может находиться в какой-то реабилитационной активности. И это касается хороших с устойчивым вегетативным тонусом детей.
Вредными являются все технологии, которые, у детей вызывают боль. Это мое личное мнение.
— Самое главное, какие задачи поставлены в этой терапии. Если, например, вашему ребенку назначат иппотерапию и скажут, что это для того, чтобы он пошел самостоятельно, то сразу неправильно поставленная задача полностью дискредитирует технологию. Другое дело, если вам скажут, что от этого улучшился эмоциональный фон ребенка и он приобретет уверенность в удержании позы сидя, потому что держаться на лошади — это ведь та же самая физическая терапия, но с присутствием большого теплого животного.
У ребенка появляется мотивационный фактор, он начинает совершать движение не ради движения, а ради общения с животным, или чтобы быть, как здоровые сверстники, которые ездят на лошади.
Да, в первых систематизированных обзорах Ионы Новак было очень скептическое отношение к иппотерапии: никакой доказанной эффективности, ни к каким положительным результатам она не приводит.
Но уже есть работы, которые говорят о том, что при правильной постановке цели, иппотерапия приводит к положительным результатам по МКФ, доказанно. Но это все равно пока не самый высокий уровень доказательности, и иппотерапия — это не технология первой очереди выбора, которую мы предложим ребенку.
Про дельфинов у меня свое личное мнение. Я очень люблю дельфинов. Это не доказано ничем, не уловлено ничем, никакими инструментальными методами, но это большое животное, которое подает сигналы, которые могут каким-то образом, еще неразведанным путем, воздействовать на мозг ребенка. Это не доказано сегодня, но все равно мы видим улучшение эмоционального фона у детей, улучшение внимания, концентрации. Я считаю, что это просто стресс, мощный афферентный импульс (нервный импульс, поступающий в центральную нервную систему от органов чувств — прим. ред.), который запускает что-то, находящееся в неактивном состоянии. Это как когда ребенок не говорил, но пошел в детский сад и начал. Потому что идет просто невероятный поток афферентной импульсации, такая избыточная стимуляция.
— Есть ли какие-то откровенно вредные способы реабилитации?
— Мы больше все-таки говорим о бесполезности методов. Он может быть невредным, но ни к чему не приводящим. Опять же, метод может быть бесполезен для осуществления какой-то цели. То есть, если мы электрофорезом с эуфиллином хотим ребенка заставить ходить самостоятельно, то это нереально. Но если мы электрофорезом с эуфиллином хотим локально улучшить микроциркуляцию, то этого мы добьемся.
Бесполезных методов много. Вредными я считаю те методы, которые могут нанести ущерб вообще любому организму: и здоровому, и с особенностями развития. Когда берут экстракты каких-то жучков, червячков, пытаются лечить малыми дозами каких-то ядов.
Думаю, каждая семья должна все-таки выбрать для себя какого-то куратора. Не обязательно, чтобы это был врач, это может быть физический терапевт, эрготерапевт, логопед, психолог. В какой сфере испытывает проблемы семья с ребенком, по этому направлению куратор и должен быть выбран. Просто в интернете это точно нельзя выбирать. Нужен какой-то специалист.
Бывает такое, что в какой-то степени технология будет эффективна, а в какой-то не просто бесполезна, а может нанести вред.
Когда я вижу реабилитационный центр, где по 6 часов массажируют детей, где до 8 часов в день физической активности, то это, конечно, может навредить организму. Представьте себе, что вы 8 часов в день занимаетесь спортом! Когда у ребенка с восьми утра до восьми вечера идут какие-то процедуры: и лазер, и клизмы, и логопед работает, я считаю, что вот это тоже может быть вредно. Больше 3,5–4 часов ребенок вообще не может находиться в какой-то реабилитационной активности. И это касается хороших с устойчивым вегетативным тонусом детей.
Вредными являются все технологии, которые, у детей вызывают боль. Это мое личное мнение.
Все, что вызывает боль, отрицательные эмоции, стресс, никогда не приведет к положительному эффекту. Никогда. Детям нельзя причинять боль. Потому что это их жизнь. Это не операция, это не зуб вырывает, это жизнь. Жизнь должна быть по удовольствию и по собственному желанию.
— Что бы вы изменили в российском подходе к реабилитации ДЦП? Какие есть прямо сейчас сильные и слабые стороны?
— Мне в реабилитации ДЦП сегодня в России как раз не хватает того, что делаем мы. Я все-таки за то, чтобы дети не просто проходили курсовую реабилитацию, а длительно наблюдались бы, и эти данные суммировалось бы в каких-то национальных регистрах. Так мы могли бы вовремя реагировать на проблемы, которые закономерно появятся у этих детей. Вот этого мне не хватает сегодня. И я в своем маленьком учреждении пытаюсь показать эту идеальную модель, когда ты не бросаешь ребенка между курсами. Вот этого точно не хватает у нас.
И второе: нельзя разделять медицинскую и социальную реабилитацию. Ребенку нужна социокультурная реабилитация, социо-бытовая, социо-спортивная, — все, что дает ему возможность реализовать себя в жизни. Элементарно ориентироваться на местности в городе, приготовить себе еду, самообслуживанием эффективно заниматься. Это же тоже движение.
Нельзя бросить социальные аспекты жизни ребенка с ДЦП и заниматься только медицинскими проблемами, нельзя ребенку одну часть помощи получать в медицинском учреждении, а вторую часть помощи — в социальном. Все должно быть в единых руках, в одном месте.
— Мне в реабилитации ДЦП сегодня в России как раз не хватает того, что делаем мы. Я все-таки за то, чтобы дети не просто проходили курсовую реабилитацию, а длительно наблюдались бы, и эти данные суммировалось бы в каких-то национальных регистрах. Так мы могли бы вовремя реагировать на проблемы, которые закономерно появятся у этих детей. Вот этого мне не хватает сегодня. И я в своем маленьком учреждении пытаюсь показать эту идеальную модель, когда ты не бросаешь ребенка между курсами. Вот этого точно не хватает у нас.
И второе: нельзя разделять медицинскую и социальную реабилитацию. Ребенку нужна социокультурная реабилитация, социо-бытовая, социо-спортивная, — все, что дает ему возможность реализовать себя в жизни. Элементарно ориентироваться на местности в городе, приготовить себе еду, самообслуживанием эффективно заниматься. Это же тоже движение.
Нельзя бросить социальные аспекты жизни ребенка с ДЦП и заниматься только медицинскими проблемами, нельзя ребенку одну часть помощи получать в медицинском учреждении, а вторую часть помощи — в социальном. Все должно быть в единых руках, в одном месте.



